эссе по философии
Идентичность в информационном обществе
Попытка поразмышлять о том, как формируется идентичность в развивающемся информационном обществе с психоаналитической точки зрения
Возможно, мой взгляд покажется опытным читателям простым или наивным, но главное, что этот взгляд является частью моей подлинной идентичности на текущей момент времени.
Вместо использования искусственного интеллекта для написания этого эссе я прибегну к использованию своей натуральной тупости. К тому же, я считаю, что тратить время читателей на изучение симулякра эссе является проявлением неуважения к ним.
Мой взгляд на трансформацию идентичности в развивающемся информационном обществе сформировался под воздействием психоаналитических теорий, которые я изучаю уже более восьми лет и которые очень люблю. В этом эссе я попробую связать процесс трансформации идентичности с теми сложностями, которые я наблюдаю у пациентов в процессе психотерапевтической работы. Мои пациенты – люди, живущие в современном информационном обществе, поэтому я уверена в том, что сложности, с которыми они обращаются наилучшим образом отражают проблематику, обозначенную в теме эссе.
Психоаналитическая психотерапия предполагает необходимость для пациента много говорить о себе. Психоаналитический сеанс является переходным пространством, которое находится внутри отношений пациента и терапевта. В этом пространстве появляются символы и рождаются новые смыслы. Цель психоанализа понять как устроен конкретный человек – узнать его идентичность, и в процессе этого узнавания ее сформировать. Томас Огден в своей книге «Матрица психики» пишет, что в процессе психоанализа мы вместе с пациентом исследуем его опыт прошлого и настоящего (включая отношения с терапевтом), и пытаемся понять как этот опыт меняет пациента, какое он имеет для пациента значение, как пациент выстраивает отношения с другими людьми, группами людей или культурой, в которой он живет.
Мой взгляд на трансформацию идентичности в развивающемся информационном обществе сформировался под воздействием психоаналитических теорий, которые я изучаю уже более восьми лет и которые очень люблю. В этом эссе я попробую связать процесс трансформации идентичности с теми сложностями, которые я наблюдаю у пациентов в процессе психотерапевтической работы. Мои пациенты – люди, живущие в современном информационном обществе, поэтому я уверена в том, что сложности, с которыми они обращаются наилучшим образом отражают проблематику, обозначенную в теме эссе.
Психоаналитическая психотерапия предполагает необходимость для пациента много говорить о себе. Психоаналитический сеанс является переходным пространством, которое находится внутри отношений пациента и терапевта. В этом пространстве появляются символы и рождаются новые смыслы. Цель психоанализа понять как устроен конкретный человек – узнать его идентичность, и в процессе этого узнавания ее сформировать. Томас Огден в своей книге «Матрица психики» пишет, что в процессе психоанализа мы вместе с пациентом исследуем его опыт прошлого и настоящего (включая отношения с терапевтом), и пытаемся понять как этот опыт меняет пациента, какое он имеет для пациента значение, как пациент выстраивает отношения с другими людьми, группами людей или культурой, в которой он живет.
Создание собственной идентичности – это активный процесс познания самого себя.
Подлинное знание основано на опыте.
Подлинное знание основано на опыте.
Ключевым отличием психоанализа является то, что психоанализ предлагает свободу мышления, которой сегодня не достает людям. Можно даже сказать, что сеансы психотерапии в психоаналитическом подходе остаются чуть ли не единственным местом, где можно свободно говорить все, что приходит в голову. Этого нельзя утверждать о других видах психотерапии, так как они предполагают иную модель взаимодействия между пациентом и терапевтом. Например, в когнитивно-поведенческом подходе работа ведется вокруг убеждений и установок пациента, используются схемы, цель которых предложить пациенту определенный способ думать. Сам терапевт выступает в роли наставника для пациента. Если мы обратимся к экзистенциально-гуманистическому подходу, то мы столкнемся с тем, что здесь направление психотерапевтической работы задается, в том числе, личностью терапевта, который активно участвует в процессе психотерапии предъявляя пациенту не только свои чувства, но и мысли, и опыт.
Таким образом, психоаналитическая психотерапия и сеансы классического психоанализа являются местом, где все пространство сеанса и внимание терапевта отдано пациенту и его свободным ассоциациям. В результате такой работы, как пишет Томас Огден, пациент будет «лучше узнавать себя и проживать жизнь таким образом, который ощущается более настоящим, более живым, более личным, более неординарным и более сострадательным». Иными словами, психоанализ способствует формированию идентичности, так как внутри сеанса создается индивидуальная история пациента, через которую пациент идентифицирует себя как себя самого, создает то, что можно назвать идентичностью.
С какой бы трудностью не обратился пациент – будь то сложности в построении любовных отношений, продвижение по службе, депрессивное состояние, пережитые травматические события и т.д. – можно обобщить все это в одну сложность - сложность понимания самого себя и пребывания с самим собой. «Я очень устал от самого себя» - такие слова иногда я слышу на сеансах психотерапии.
Мне нравится то, как Зигмунд Фрейд определяет понятие счастья: любить и работать. Работать – значит быть реализованным в социальной сфере: что-то создавать, творить (бизнес – это тоже творчество), быть в надёжных отношениях с другими людьми, зарабатывать деньги, приносить благо обществу. Любить – значит находиться в отношениях взаимной зрелой любви, основанной на уважении к самому себе и инаковости другого; такие отношения приводят к подлинной близости в паре, возможности взаимного развития на протяжении жизни.
Таким образом, психоаналитическая психотерапия и сеансы классического психоанализа являются местом, где все пространство сеанса и внимание терапевта отдано пациенту и его свободным ассоциациям. В результате такой работы, как пишет Томас Огден, пациент будет «лучше узнавать себя и проживать жизнь таким образом, который ощущается более настоящим, более живым, более личным, более неординарным и более сострадательным». Иными словами, психоанализ способствует формированию идентичности, так как внутри сеанса создается индивидуальная история пациента, через которую пациент идентифицирует себя как себя самого, создает то, что можно назвать идентичностью.
С какой бы трудностью не обратился пациент – будь то сложности в построении любовных отношений, продвижение по службе, депрессивное состояние, пережитые травматические события и т.д. – можно обобщить все это в одну сложность - сложность понимания самого себя и пребывания с самим собой. «Я очень устал от самого себя» - такие слова иногда я слышу на сеансах психотерапии.
Мне нравится то, как Зигмунд Фрейд определяет понятие счастья: любить и работать. Работать – значит быть реализованным в социальной сфере: что-то создавать, творить (бизнес – это тоже творчество), быть в надёжных отношениях с другими людьми, зарабатывать деньги, приносить благо обществу. Любить – значит находиться в отношениях взаимной зрелой любви, основанной на уважении к самому себе и инаковости другого; такие отношения приводят к подлинной близости в паре, возможности взаимного развития на протяжении жизни.
Здесь возникает вопрос: у многих людей есть семья и работа, но они несчастны, почему?
Ответ на этот вопрос заключается в том, что вероятно то, что есть у человека в данный момент времени не соответствует его идентичности, так как она не сформирована или сформирована недостаточно ясно для него самого. Человек может идти по очень верному, с социальной точки зрения, пути развития, и при этом не иметь собственного представления зачем ему это нужно. Или же быть убежденным, что этот путь верный, но в итоге столкнуться с тем, что для него лично на этом пути счастья нет, и в этот момент весь путь оказывается симулякром… Иногда после этого осознания люди оказываются в моем кабинете.
Думаю, сегодня людям так трудно сформировать свою подлинную идентичность, потому что человек никогда не остается один на один сам с собой. Последнее поколение людей, которое имеет опыт подлинного одиночества - люди, рожденные до повсеместного распространения интернета, т.е. примерно до 2000-х годов или в начале 2000-х.
Сегодня, в эпоху вездесущих технологий, мы не имеем доступа к подлинному одиночеству. Мы скорее имеем симулякр одиночества – рядом с нами может никого не быть, но при этом на расстоянии вытянутой руки мы имеем доступ к тому, что нас может от одиночества избавить: общению в сети, фильмам и сериалам, серфингу в интернете, развлекательным программам, к умной колонке «Алиса» и искусственному интеллекту. Интересно, что симулякр одиночества легко превращается и в симулякр присутствия. Именно потому, что мы имеем доступ к информационным технологиям – мы можем чувствовать себя так, будто кто-то всегда рядом с нами, но на самом деле никого рядом нет.
В моей жизни случилось два опыта, которые помогли мне осознать призрачность информационных связей между людьми и одновременно постоянную тяжесть давления информации. Как-то я была на выставке современного искусства, где на одной из инсталляций было представлено пространство полностью заполненно прозрачными полиэтиленовыми пакетами. Предстояло пройти через это пространство и попробовать почувствовать какого это пробираться через поле, перегруженное информацией. Полиэтиленовые пакеты символизировали потоки информации. Пакеты были легкими, прозрачными и протискиваться между ними было не трудно, но было ощущение призрачного давление, которое я испытывала, двигаясь между ними, и чувство раздражения – я не видела далеко и четко, реальность за пакетами была слишком размыта. Думаю, это как раз и есть то, что сегодня испытываем мы, живя в мире, где постоянно в нас вливается информация из различных источников. Второй опыт случился со мной во время карантина 2020 года. Я вдруг осознала, что мои подлинные друзья – это те, с кем я общаюсь и вижусь независимо от ситуации, а те, кого я просто наблюдаю в коротких историях социальных сетей – всего лишь знакомые. Тогда в моей жизни разбился симулякр дружбы – просмотр историй и взаимные лайки – действия, в которых нет подлинной близости и общения. С тех пор я перестала тратить много времени своей жизни на присутствие в социальных сетях.
Жизнь людей сегодня переполнена различными симулякрами, в то время как для всего подлинного не остается места. Есть хорошая мысль о том, что сеанс психотерапии – это место для тех, кто не находит себе места в жизни. И правда, трудно найти свое место в жизни, если не знаешь кто ты такой на самом деле. Как в том анекдоте: «Слушай, а ты не знаешь, где мы? – К черту подробности! Кто мы?!».
Думаю, сегодня людям так трудно сформировать свою подлинную идентичность, потому что человек никогда не остается один на один сам с собой. Последнее поколение людей, которое имеет опыт подлинного одиночества - люди, рожденные до повсеместного распространения интернета, т.е. примерно до 2000-х годов или в начале 2000-х.
Сегодня, в эпоху вездесущих технологий, мы не имеем доступа к подлинному одиночеству. Мы скорее имеем симулякр одиночества – рядом с нами может никого не быть, но при этом на расстоянии вытянутой руки мы имеем доступ к тому, что нас может от одиночества избавить: общению в сети, фильмам и сериалам, серфингу в интернете, развлекательным программам, к умной колонке «Алиса» и искусственному интеллекту. Интересно, что симулякр одиночества легко превращается и в симулякр присутствия. Именно потому, что мы имеем доступ к информационным технологиям – мы можем чувствовать себя так, будто кто-то всегда рядом с нами, но на самом деле никого рядом нет.
В моей жизни случилось два опыта, которые помогли мне осознать призрачность информационных связей между людьми и одновременно постоянную тяжесть давления информации. Как-то я была на выставке современного искусства, где на одной из инсталляций было представлено пространство полностью заполненно прозрачными полиэтиленовыми пакетами. Предстояло пройти через это пространство и попробовать почувствовать какого это пробираться через поле, перегруженное информацией. Полиэтиленовые пакеты символизировали потоки информации. Пакеты были легкими, прозрачными и протискиваться между ними было не трудно, но было ощущение призрачного давление, которое я испытывала, двигаясь между ними, и чувство раздражения – я не видела далеко и четко, реальность за пакетами была слишком размыта. Думаю, это как раз и есть то, что сегодня испытываем мы, живя в мире, где постоянно в нас вливается информация из различных источников. Второй опыт случился со мной во время карантина 2020 года. Я вдруг осознала, что мои подлинные друзья – это те, с кем я общаюсь и вижусь независимо от ситуации, а те, кого я просто наблюдаю в коротких историях социальных сетей – всего лишь знакомые. Тогда в моей жизни разбился симулякр дружбы – просмотр историй и взаимные лайки – действия, в которых нет подлинной близости и общения. С тех пор я перестала тратить много времени своей жизни на присутствие в социальных сетях.
Жизнь людей сегодня переполнена различными симулякрами, в то время как для всего подлинного не остается места. Есть хорошая мысль о том, что сеанс психотерапии – это место для тех, кто не находит себе места в жизни. И правда, трудно найти свое место в жизни, если не знаешь кто ты такой на самом деле. Как в том анекдоте: «Слушай, а ты не знаешь, где мы? – К черту подробности! Кто мы?!».
Когда пациент приходит на сеанс психотерапии у него появляется переходное пространство – место, где можно думать о себе. Могу сказать, что думать о себе пациентам бывает довольно трудно. И я понимаю эту трудность. Четверть века назад, когда я только начинала свой пусть в психологии и ходила на личную терапию, – мне было сложно говорить о себе на сеансах раз в неделю, и я была возмущена тем, о чем можно говорить у психоаналитика четыре раза в неделю. Сегодня, у меня не возникает таких вопросов. Познание своего внутреннего мира и формирование представления о себе – это бесконечно интересно. Личный психоанализ – это не только способ избавиться от боли внутри, которая все еще остается и вероятно будет в какой-то степени присутствовать всегда, но и способ познания себя, а это бесконечно интересно.
Но здесь я отвлеклась, вернемся к трудности думать о себе самом на сеансах психотерапии. Нужно сидеть, не отвлекаясь и удерживать внимание на себе самом. Иногда людям хочется сбежать в серфинг в телефоне, начать что-то делать или хочется, чтобы я больше сама говорила на сеансах. Еще один способ избежать размышления о себе – это симулировать процесс мышления, т.е. постоянно говорить обо всем и одновременно ни о чем. В таком потоке речи обычно нет пауз и интонаций, он ощущается как затапливающий, и его бывает довольно трудно прервать. Во всех проявлениях общее то, что человеку невыносимо оставаться один на один с пустотой внутри. Чтобы найти ответы нужны вопросы.
Но здесь я отвлеклась, вернемся к трудности думать о себе самом на сеансах психотерапии. Нужно сидеть, не отвлекаясь и удерживать внимание на себе самом. Иногда людям хочется сбежать в серфинг в телефоне, начать что-то делать или хочется, чтобы я больше сама говорила на сеансах. Еще один способ избежать размышления о себе – это симулировать процесс мышления, т.е. постоянно говорить обо всем и одновременно ни о чем. В таком потоке речи обычно нет пауз и интонаций, он ощущается как затапливающий, и его бывает довольно трудно прервать. Во всех проявлениях общее то, что человеку невыносимо оставаться один на один с пустотой внутри. Чтобы найти ответы нужны вопросы.
Чтобы появились вопросы – нужна пустота, в которой вопросы могли бы возникнуть.
Кажется, сегодня внутренняя пустота сильно пугает людей. Она невыносима и люди пытаются ее моментально заполнить, не оставляя себе шанса на рождение собственной мысли, шанса услышать свой собственный голос, шанса на собственную идентичность.
Когда-то ответы искали в диалоге с другим человеком, потом в книгах, потом в интернете, а сейчас есть возможность мгновенно получить ответы у искусственного интеллекта. Информации так много, что не остается пространства для собственных мыслей – встречи с самим собой. Отличие современного мира от прошлого в том, что в диалоге с другим или при прочтении книги так или иначе наступала пауза для одиночества и для осмысления случившегося. Такая пауза наступает и между сеансами психотерапии, и в этой паузе запускается возможность снова осмыслить то, что было на сеансе и то, что в качестве ассоциаций и размышлений приходит после него.
Свободное пространство дает возможность почувствовать, что чего-то нет. Чувствовать неудовлетворенность, нужду – это большое бремя для человека. Поэтому есть большое желание отдать это бремя другому, и в этом обрести немного удовлетворения для самого себя, но это удовлетворение не будет являться подлинным, оно будет подменным. Сегодня все чаще это бремя перекладывается в невидимые руки искусственного интеллекта. Однако, именно в переживании нужды в удовлетворении потребности рождается идея о том, какие именно есть возможности эту потребность удовлетворить. Зигмунд Фрейд писал: «Объект рождается в его отсутствии». Дональд Винникот ввел термин достаточно хорошей матери – когда мать не вовлечена постоянно в жизнь младенца, а уходит и отсутствует ровно столько, сколько может выдержать младенец. Это запускает мыслительные процессы в психике младенца, а также развивает его представление о себе как об отдельном субъекте. В этом смысле можно сравнить постоянное обращение к искусственному интеллекту с матерью-наседкой, которая не оставляет пространства для индивидуальности малыша и развития его мышления, затапливая все пространство своим постоянным присутствием. У таких матерей обычно дети с трудом ориентируются в том, чего же они хотят. Здесь снова хочется процитировать анекдот: «Мама, я что голодный? – Нет, ты замерз!».
Еще одна проблематика современного общества информационных технологий, мешающая развитию мышления и созданию подлинной собственной идентичности, – это грандиозность, как попытка защититься от пустоты и нужды. Человек делегирует современным информационным технологиям удовлетворение своих потребностей, – например если есть интернет и искусственный интеллект, то есть знания обо всем. Но это симулякр владения знаниями. Как только доступ к технологиям обрывается человек сталкивается с ограниченностью, я бы даже сказала, скудностью собственных знаний.
Что такое контакт с нуждой? Как ни парадоксально это прозвучит – контакт с собственной нуждой – это источник для творчества, акта создания чего-либо в своей жизни: мыслей, отношений, денег, произведений искусства и т.д. Например, студенты и школьники, использующие для написания своих курсовых работ или эссе искусственный интеллект, лишают себя возможности осмыслить тему работы самостоятельно, а именно, осознать свой подлинный интерес к этой теме и свои индивидуальные мысли относительно её, а ведь все это и есть часть идентичности: то, как я вижу мир, то как я о нем думаю. Таким образом, боясь показаться глупым человек использует искусственный интеллект, и остается псевдоинтеллектуалом не понимая того, что таким образом обкрадывает самого себя и только увеличивает внутреннюю пустоту.
Томас Огден в книге «Матрица психики» пишет, что сновидец, который интерпретирует свой сон становится творцом. Тоже можно сказать и о жизни в целом. Когда человек осмысляет свой жизненный опыт – он становится творцом своей жизни, своей идентичности, своего бытия: я есть такой. Идентичность рождается посредством активной интерпретации. Но если человек не умеет думать о себе, то он не может создать свою идентичность. Здесь будет только симулякр - то, что создается извне и не мной – представления других обо мне, или информация о том, каким нужно быть. Можно только представить сколько людей поранилось об информацию о том, каким должен быть идеальный мужчина или идеальная женщина, или о том, что такое идеальная мать, или идеальный отец… Каждый раз, когда человек делегирует способность размышлять о себе чему-то во вне, например, искусственному интеллекту он лишает себя подлинной идентичности.
Когда-то ответы искали в диалоге с другим человеком, потом в книгах, потом в интернете, а сейчас есть возможность мгновенно получить ответы у искусственного интеллекта. Информации так много, что не остается пространства для собственных мыслей – встречи с самим собой. Отличие современного мира от прошлого в том, что в диалоге с другим или при прочтении книги так или иначе наступала пауза для одиночества и для осмысления случившегося. Такая пауза наступает и между сеансами психотерапии, и в этой паузе запускается возможность снова осмыслить то, что было на сеансе и то, что в качестве ассоциаций и размышлений приходит после него.
Свободное пространство дает возможность почувствовать, что чего-то нет. Чувствовать неудовлетворенность, нужду – это большое бремя для человека. Поэтому есть большое желание отдать это бремя другому, и в этом обрести немного удовлетворения для самого себя, но это удовлетворение не будет являться подлинным, оно будет подменным. Сегодня все чаще это бремя перекладывается в невидимые руки искусственного интеллекта. Однако, именно в переживании нужды в удовлетворении потребности рождается идея о том, какие именно есть возможности эту потребность удовлетворить. Зигмунд Фрейд писал: «Объект рождается в его отсутствии». Дональд Винникот ввел термин достаточно хорошей матери – когда мать не вовлечена постоянно в жизнь младенца, а уходит и отсутствует ровно столько, сколько может выдержать младенец. Это запускает мыслительные процессы в психике младенца, а также развивает его представление о себе как об отдельном субъекте. В этом смысле можно сравнить постоянное обращение к искусственному интеллекту с матерью-наседкой, которая не оставляет пространства для индивидуальности малыша и развития его мышления, затапливая все пространство своим постоянным присутствием. У таких матерей обычно дети с трудом ориентируются в том, чего же они хотят. Здесь снова хочется процитировать анекдот: «Мама, я что голодный? – Нет, ты замерз!».
Еще одна проблематика современного общества информационных технологий, мешающая развитию мышления и созданию подлинной собственной идентичности, – это грандиозность, как попытка защититься от пустоты и нужды. Человек делегирует современным информационным технологиям удовлетворение своих потребностей, – например если есть интернет и искусственный интеллект, то есть знания обо всем. Но это симулякр владения знаниями. Как только доступ к технологиям обрывается человек сталкивается с ограниченностью, я бы даже сказала, скудностью собственных знаний.
Что такое контакт с нуждой? Как ни парадоксально это прозвучит – контакт с собственной нуждой – это источник для творчества, акта создания чего-либо в своей жизни: мыслей, отношений, денег, произведений искусства и т.д. Например, студенты и школьники, использующие для написания своих курсовых работ или эссе искусственный интеллект, лишают себя возможности осмыслить тему работы самостоятельно, а именно, осознать свой подлинный интерес к этой теме и свои индивидуальные мысли относительно её, а ведь все это и есть часть идентичности: то, как я вижу мир, то как я о нем думаю. Таким образом, боясь показаться глупым человек использует искусственный интеллект, и остается псевдоинтеллектуалом не понимая того, что таким образом обкрадывает самого себя и только увеличивает внутреннюю пустоту.
Томас Огден в книге «Матрица психики» пишет, что сновидец, который интерпретирует свой сон становится творцом. Тоже можно сказать и о жизни в целом. Когда человек осмысляет свой жизненный опыт – он становится творцом своей жизни, своей идентичности, своего бытия: я есть такой. Идентичность рождается посредством активной интерпретации. Но если человек не умеет думать о себе, то он не может создать свою идентичность. Здесь будет только симулякр - то, что создается извне и не мной – представления других обо мне, или информация о том, каким нужно быть. Можно только представить сколько людей поранилось об информацию о том, каким должен быть идеальный мужчина или идеальная женщина, или о том, что такое идеальная мать, или идеальный отец… Каждый раз, когда человек делегирует способность размышлять о себе чему-то во вне, например, искусственному интеллекту он лишает себя подлинной идентичности.
Обращение к искусственному интеллекту лежит в поле страха столкнуться с нуждой – то есть со своей, если угодно, натуральной тупостью.
Что такое тупость? Это незнание. Признать, что я чего-то не знаю, значит обнаружить свое невежество и нужду узнать. Как следствие, породить в этой нужде желание получить знания, и проделать долгий путь познания, осмысления знаний и порождения собственных, порой очень несовершенных, мыслей. Пойти по пути натуральной тупости, значит отказаться от идеи собственной грандиозности, и признать себя очень обыкновенным и заурядным, т.е. выражаясь психоаналитическим языком – снизить требования Супер-эго. Это довольно трудно, учитывая бесконечный информационный поток историй об успешных и богатых людях, рассматривая которые кажется, что быть обычными человеком просто ужасно неприлично. Так поток информации влияет на идентичность человека, который под этим давлением выбирает быть модным и современным, как ему кажется, интеллектуалом и не ведая, создает симулякр самого себя. Рано или поздно симулякр идентичности разбивается о подлинную реальность, с которой мы встречаемся благодаря собственной смертности, старению и прочим ограничениям и различным несовершенствам, которые есть у каждого человека в жизни.
Само по себе незнание вызывает большую тревогу, от которой человеку хочется как можно быстрее спастись, найти какую-то структуру, какие-то чужие знания или правила, которые бы гарантировали счастье в жизни. Отказываясь от осознания своей нужны в знаниях человек оказывается в ловушке, так как сам источник желания породить мысль – нужда – блокируется под стигмой слабости и стыда. Людям трудно размышлять о себе на сеансах психотерапии, так как трудно обнаруживать собственное незнание рядом с другим, потому что это стыдно. Как я уже писала выше, сеанс может быть наполнен подробностями, но в них не будет символического содержания. Каждому событию в опыте человека присваивается определенное символическое значение, т.е. дается интерпретация, устанавливаются причинно-следственные связи, а когда этого нет, опыт не сохраняется как часть идентичности. Человек без прошлого – это человек без будущего.
Об этом интересно рассуждает Юлия Кристева в беседе со своим мужем Филиппом Соллерсом, говоря о том с какой сложностью она сейчас сталкивается в своей работе как психоаналитик: «Остается невостребованным умение «психировать», позволю себе использовать этот неологизм, то есть умение выразить в словах возбуждение, тревогу, психологическую травму, отобразить их любым другим способом: посредством живописи, музыки, танца, спорта; но, главное назвать это. Поскольку языку не только под силу перемещать вспышку, ослабляя ее, но и интерпретировать ее, а также при необходимости разделить ее с соответствующей способностью партнера. При отсутствии этой модуляции внутреннее пространство сжимается, разрушается, импульс атакует человека, у которого начинает бурно развиваться психосоматическое заболевание, или он и вовсе превращается человеческую бомбу, в камикадзе: человек обезличивается до такой степени, что становится оружием массового поражения...» И Филипп Соллерс ей отвечает: «Недавно ты мне сказала: «Интересно: люди непрерывно получают новую информацию в так называемом реальном времени, и все такое: здорово, все вокруг бурлит... Но вот, что странно, когда речь заходит о них самих, им кажется, что они живут в консервной банке». Это просто потрясающе: человек ежесекундно глобализируется и при этом живет в консервной банке!».
Я думаю, в этом коротком диалоге очень ярко выражена проблематика современности: идентичность человека не может развиваться из-за отсутствия пространства для мышления, так как пространство вокруг человека постоянно занято каким-то информационным фоном. Возможно, сейчас в мире такой высокий спрос на психологов - люди нуждаются в том месте, где можно размышлять о себе, не отвлекаясь на гаджеты и не обманывая себя. Месте, где можно не подменять смыслы, а создавать их.
Мне близка мысль Юлии Кристевой о том, что слова – это наши единственные свидетели, способные превратить нашу немую боль в историю. Я наблюдаю то, как людям бывает трудно помыслить о том, от чего они страдают, и порой, не находится слов, чтобы описать то душевное переживание, которое человек сейчас испытывает. Не находится слов, чтобы установить связь между чувством и его источником, и как следствие, - связь между потребностью и способом ее удовлетворения. Иногда людям кажется, что нужно что-то обязательно сделать, чтобы стало легче, но первое, если можно сказать, действие, – это символизировать аффект, то есть дать ему слово. Этого уже достаточно для того, чтобы перестать быть заложником этого аффекта. Люди боятся собственного невежества, тревоги, смертности, забывая о том, что в этих переживаниях рождается подлинная идентичность: в моей жизни происходят какие-то события и у меня есть к ним какое-то отношение, т.е. я их как-то переживаю.
Само по себе незнание вызывает большую тревогу, от которой человеку хочется как можно быстрее спастись, найти какую-то структуру, какие-то чужие знания или правила, которые бы гарантировали счастье в жизни. Отказываясь от осознания своей нужны в знаниях человек оказывается в ловушке, так как сам источник желания породить мысль – нужда – блокируется под стигмой слабости и стыда. Людям трудно размышлять о себе на сеансах психотерапии, так как трудно обнаруживать собственное незнание рядом с другим, потому что это стыдно. Как я уже писала выше, сеанс может быть наполнен подробностями, но в них не будет символического содержания. Каждому событию в опыте человека присваивается определенное символическое значение, т.е. дается интерпретация, устанавливаются причинно-следственные связи, а когда этого нет, опыт не сохраняется как часть идентичности. Человек без прошлого – это человек без будущего.
Об этом интересно рассуждает Юлия Кристева в беседе со своим мужем Филиппом Соллерсом, говоря о том с какой сложностью она сейчас сталкивается в своей работе как психоаналитик: «Остается невостребованным умение «психировать», позволю себе использовать этот неологизм, то есть умение выразить в словах возбуждение, тревогу, психологическую травму, отобразить их любым другим способом: посредством живописи, музыки, танца, спорта; но, главное назвать это. Поскольку языку не только под силу перемещать вспышку, ослабляя ее, но и интерпретировать ее, а также при необходимости разделить ее с соответствующей способностью партнера. При отсутствии этой модуляции внутреннее пространство сжимается, разрушается, импульс атакует человека, у которого начинает бурно развиваться психосоматическое заболевание, или он и вовсе превращается человеческую бомбу, в камикадзе: человек обезличивается до такой степени, что становится оружием массового поражения...» И Филипп Соллерс ей отвечает: «Недавно ты мне сказала: «Интересно: люди непрерывно получают новую информацию в так называемом реальном времени, и все такое: здорово, все вокруг бурлит... Но вот, что странно, когда речь заходит о них самих, им кажется, что они живут в консервной банке». Это просто потрясающе: человек ежесекундно глобализируется и при этом живет в консервной банке!».
Я думаю, в этом коротком диалоге очень ярко выражена проблематика современности: идентичность человека не может развиваться из-за отсутствия пространства для мышления, так как пространство вокруг человека постоянно занято каким-то информационным фоном. Возможно, сейчас в мире такой высокий спрос на психологов - люди нуждаются в том месте, где можно размышлять о себе, не отвлекаясь на гаджеты и не обманывая себя. Месте, где можно не подменять смыслы, а создавать их.
Мне близка мысль Юлии Кристевой о том, что слова – это наши единственные свидетели, способные превратить нашу немую боль в историю. Я наблюдаю то, как людям бывает трудно помыслить о том, от чего они страдают, и порой, не находится слов, чтобы описать то душевное переживание, которое человек сейчас испытывает. Не находится слов, чтобы установить связь между чувством и его источником, и как следствие, - связь между потребностью и способом ее удовлетворения. Иногда людям кажется, что нужно что-то обязательно сделать, чтобы стало легче, но первое, если можно сказать, действие, – это символизировать аффект, то есть дать ему слово. Этого уже достаточно для того, чтобы перестать быть заложником этого аффекта. Люди боятся собственного невежества, тревоги, смертности, забывая о том, что в этих переживаниях рождается подлинная идентичность: в моей жизни происходят какие-то события и у меня есть к ним какое-то отношение, т.е. я их как-то переживаю.
Если человек не способен переживать и интерпретировать собственный опыт, наверное, можно сказать, что он будто не живет свою жизнь.
Еще одна цель психоанализа – оставить прошлое в прошлом. Кажется, что на сеансах мы говорим много о прошлом, и часто психоанализ обвиняют за то, что так долго приходится говорить о нем. Дело в том, что именно незнание своего прошлого порождает цепочку повторяющихся событий в будущем. Настоящее безусловно более могущественно, чем прошлое. Но пока прошлому не дано символическое значение, пока ему не предоставлено место в личной истории – т.е. пока прошлое не стало частью идентичности человека, оно имеет власть над ним. Чтобы иметь возможность прилагать в настоящем усилия для сотворения нужного будущего необходимо знание о собственной идентичности, которая складывается из понимания прошлого опыта и текущих нужд – размышлений о том, чего сегодня еще нет в жизни, но оно нужно. Поэтому иметь способность размышлять о себе, это значит иметь возможность ориентироваться в настоящем и строить свое будущее. Подлинный творец своей жизни тот, кто может в реалиях современного мира оставлять пространство для размышлений о себе.
В заключении своего несовершенного эссе, написанного с помощью моей натуральной тупости, я процитирую Виктора Пелевина, который в одном из своих интервью сказал: «Сознание не нужно расширять, его нужно очищать». Я думаю, что современный человек в желании избежать внутренней пустоты своего сознания гонится за информацией и не замечает, как создает симулякр собственной идентичности, начиная свое утро с просмотра оповещений и новостей в телефоне вместо того, чтобы обозревать свой внутренний мир и задать себе несколько вопросов. Например, как я себя сейчас чувствую? Как я сегодня спал? Что мне снилось? Что это могло бы значить для меня? Какой у меня сегодня будет день? Чего бы я хотел для себя от этого дня? Как это желание связано с тем, чего я хочу для себя от этой жизни?.. и т.д. Оветами на эти вопросы является не внешняя информация, а активное познание самого себя.
Можно ли сказать, что подлинная идентичность формируется в процессе поиска ответов на различные вопросы? Я отвечу – да. Психоанализ предлагает наполнять сознание внутренними содержаниями – сделать бессознательное сознательным. Чем более полно представление о своей подлинной идентичности, тем более свободно и уверенно человек чувствует себя в жизни, и более творчески проживает свою жизнь.
В заключении своего несовершенного эссе, написанного с помощью моей натуральной тупости, я процитирую Виктора Пелевина, который в одном из своих интервью сказал: «Сознание не нужно расширять, его нужно очищать». Я думаю, что современный человек в желании избежать внутренней пустоты своего сознания гонится за информацией и не замечает, как создает симулякр собственной идентичности, начиная свое утро с просмотра оповещений и новостей в телефоне вместо того, чтобы обозревать свой внутренний мир и задать себе несколько вопросов. Например, как я себя сейчас чувствую? Как я сегодня спал? Что мне снилось? Что это могло бы значить для меня? Какой у меня сегодня будет день? Чего бы я хотел для себя от этого дня? Как это желание связано с тем, чего я хочу для себя от этой жизни?.. и т.д. Оветами на эти вопросы является не внешняя информация, а активное познание самого себя.
Можно ли сказать, что подлинная идентичность формируется в процессе поиска ответов на различные вопросы? Я отвечу – да. Психоанализ предлагает наполнять сознание внутренними содержаниями – сделать бессознательное сознательным. Чем более полно представление о своей подлинной идентичности, тем более свободно и уверенно человек чувствует себя в жизни, и более творчески проживает свою жизнь.
11 июня 2025
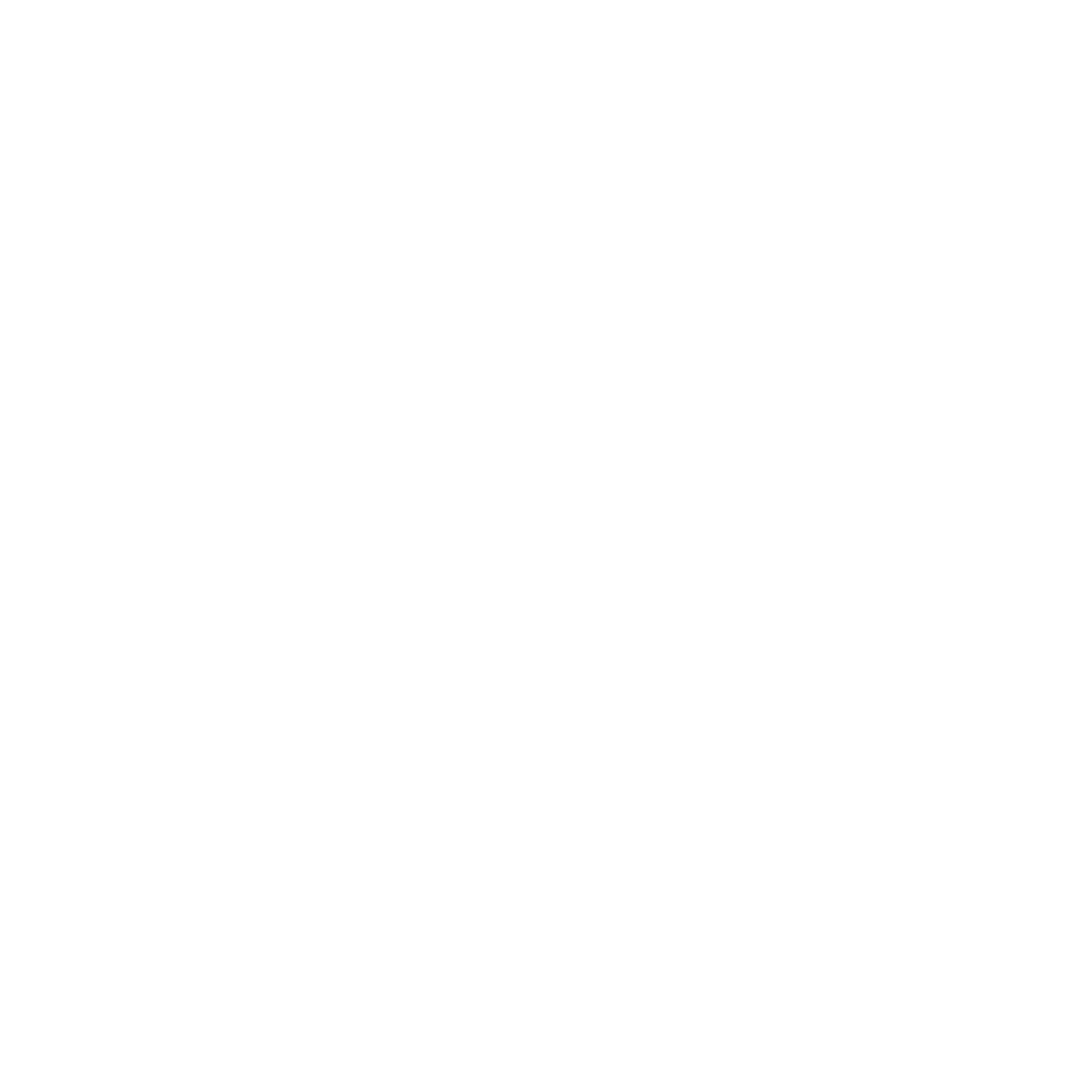
Коновалова Анастасия Вячеславовна
Психолог, психоаналитический терапевт, супервизор
- Симулякры и симуляции / Ж. Бодрийяр; [пер. с фр. А. Качалова]. – М.: Издательский дом «ПОСТУМ», 2015. – 240 с. – (Технология свободы).
- Идентичность и символический хронотоп: монография / В.А. Емелин, А.Ш. Тхостов. – М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2020. – 304 с.; ил.
- Брак как произведение искусства / Ю. Кристева, Ф. Соллерс; [пер. с фр. Н.В. Баландиной]. – М.: РИПОЛ классик, 2020. – 192 с. – (Фигуры Философии)
- Черное солнце: депрессия и меланхолия / Ю. Кристева; [пер. с фр.] – М.: Когито-Центр, 2016. – 276 с. (Бибилиотека психоанализа)
- Матрица психики. Объектные отношения и психоаналитический диалог / Т. Огден; [пер. с англ. А. Левченко]. – М.: Издательство Beta 2 Alpha, 2024 – 304 с.